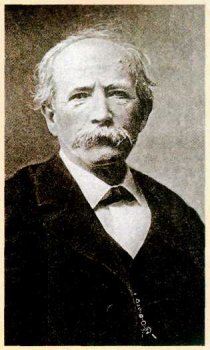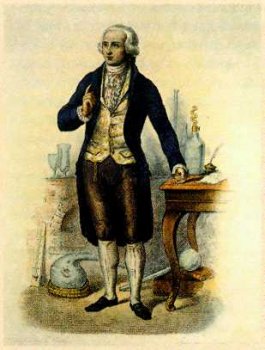Газы не имеют собственной формы и объёма и, как правило, смешиваются друг с другом в любых соотношениях (если, конечно, между ними не идёт химическая реакция). Эти свойства газов обусловлены тем, что молекулы в них находятся далеко друг от друга. Доля свободного объёма, т. е. пространства, не занятого самими молекулами, в газах при нормальных условиях (атмосферном давлении и температуре 0 °С) составляет более 99%. В этом объёме молекулы газов хаотически движутся с большой скоростью, постоянно сталкиваясь друг с другом. Собственно, само слово «газ» происходит от греческого «хаос»; этот термин ввёл в XVII в. нидерландский естествоиспытатель Ян Баптист ван Гельмонт (1579—1644).
При небольших давлениях межмолекулярными взаимодействиями в газах можно пренебречь, т. с. разные газы ведут себя практически одинаково (если говорить о физических, а не химических свойствах). Такое состояние газа называется идеальным и описывается уравнением, связывающим его давление р, объём V, число молей n и температуру Т: pV = nRT, где R — универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж/(моль•К)=0,082 (л•атм)/(моль • К)).
Изменение энергии орбиталей в зависимости от порядкового номера элемента.

Почему же удивительно стройная атомистическая гипотеза древних долго не получала признания? Учение Демокрита и других атомистов натолкнулось на ожесточённое сопротивление Аристотеля. Он показал, что неизбежное для учения об атомах понятие пустоты несёт в себе логическое противоречие: ведь пустота — это «ничто», а как может быть то, чего не существует? Следовательно, пустоты в мире нет, это — абстракция, лишённая смысла. «Natura abhorret vacuum» — «природа не терпит пустоты» {лат.). Данный постулат в течение многих столетий был основой так называемой аристотелевой физики. Из-за огромного авторитета Аристотеля атомная гипотеза строения материи два тысячелетия оставалась на задворках науки...
Вероятно, древнегреческие мыслители первыми высказали предположение о том, что материальный мир един, а потому познаваем. Фалес (около 625 — около 547 до н. э.), наблюдая за различными превращениями веществ, пришёл к выводу, что все они являются разновидностями одного «первичного элемента» — начала всех веществ. Таким элементом Фалес считал воду. Анаксимен (VI в. до н. э.) называл первичным элементом воздух, Гераклит (VI—V вв. до н. э.) — огонь. Аристотель (384-^322 до н. э.) развивал учение о четырёх первоначалах — огне, воздухе, воде и земле. Элементы он считал не материальными субстанциями, подобными обычной воде или земле, а лишь носителями определённых качеств, которыми наделены все тела. Эти качества — теплота, холод, сухость и влажность.
Иначе подошли к учению о строении материи Левкипп (V в. до н. э.) и его ученик Демокрит. Их занимал вопрос о её делимости на всё более мелкие частицы — конечен ли этот процесс или бесконечен? Если деление можно продолжать как угодно долго, значит, материя непрерывна, и её структура принципиально не меняется при любом «увеличении». Если же деление нельзя продолжать бесконечно, рано или поздно мы дойдём до мельчайшей частички, которую Демокрит назвал атомом, что в переводе и означает «неделимый». Тут предполагалась дискретность (от лат. discretus — «прерывистый») материи: между мельчайшими её частичками — пустота.
Многочисленные эксперименты, проведённые физиками в начале XX в.. показали, что атомы состоят из ядер, вокруг которых движутся электроны — в этом отношении атомы напоминают Солнечную систему. Недаром модель атома, предложенную в 1911 г. английским физиком Эрнестом Резерфордом (1871 — 1937), назвали планетарной. Действительно, в Солнечной системе почти вся масса (99,87 %) сосредоточена в центральном светиле, а на планеты приходятся лишь сотые доли процента. Оказывается, в атомах тоже практически вся масса сосредоточена в ядре (в частности, в атоме водорода — 99,95 %).
Но если сравнивать не массы, а размеры, то окажется, что атом намного более «пустой», чем Солнечная система. Её диаметр примерно в 4 тыс. раз больше диаметра Солнца. Размеры же атомов (порядка 10-10 м) приблизительно в 100 тыс. раз превышают размеры ядра (порядка 10-15 м для лёгких ядер)! Если увеличить ядро до 1 мм (булавочная головка), то сам атом вырастет до 100 000 мм = 100 м (размер футбольного поля). Ещё разительнее сопоставление объёмов ядра и атома — получается разница в 15 порядков. Это означает, например, что практически вся масса огромного свинцового куба с ребром 100 м (она равна 11 млн. тонн) сосредоточена в ядрах атома свинца, суммарный объём которых меньше спичечной головки! Трудно даже представить себе, насколько высока плотность ядерного вещества.
Современные понятия элемента, атома и простого вещества, молекулы как совокупности связанных между собой атомов сформировались сравнительно недавно. Но атомистическая теория строения материи — учение о том, что все вещества состоят из мельчайших частиц, — прошла долгий и трудный путь.
Догадки древних, основанные лишь на размышлениях, в принципе, не так уж далеки от нынешних представлений: существуют определённые типы атомов (элементы), которые могут по-разному соединяться друг с другом, давая огромное разнообразие веществ с несхожими свойствами. Такое учение было величайшим достижением человеческого разума. Очень образно об этом сказал американский физик, лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман: «Если бы в результате какой-то мировой катастрофы все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям живых существ перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это — атомная гипотеза (можно называть её не гипотезой, а фактом, но это ничего не меняет): все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. В одной этой фразе... содержится невероятное количество информации о мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и чуть соображения».
В. С. Высоцкий
Когда представляют научного работника, обычно указывают его учёную степень (если, конечно, она есть). Сейчас в Российской Федерации этих степеней две — кандидат и доктор наук. Впервые же учёные степени появились в России в начале XIX в. Они пришли к нам из Германии, где кандидатами называли лиц, сдавших первый государственный экзамен; были, например, кандидаты богословия, медицины, права и т. д.
Исторически это название восходит к Древнему Риму. У римлян соискатель какой-либо должности назывался candidatus, дословно «одетый в белое». Кандидат надевал тогу ослепительно белого цвета (toga Candida) и обходил граждан, которых просил подать за него голос во время выборов. Порой и сейчас кандидаты в кандидаты заранее обходят членов учёного совета, вручают им автореферат диссертации и в явной или неявной форме просят подать за них голос во время тайного голосования на заседании совета. Правда, белых одежд они при этом не надевают.
Трое из перечисленных лауреатов получили Нобелевскую премию дважды. Первой удостоилась столь высокого отличия Мария Склодовская-Кюри. Вместе с мужем, французским физиком Пьером Кюри, в 1903 г. она стала обладательницей Нобелевской премии по физике «за исследования явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». Вторая премия, теперь уже по химии, была присуждена Склодовской-Кюри в 1911 г. «за заслуги в исследованиях открытых ею элементов радия и полония, выделении радия и изучении природы и соединений этого удивительного элемента».

В 1893 г. швейцарский химик Альфред Вернер сформулировал основы теории строения комплексных соединений — координационной теории.
Итак, к середине 90-х гг. здание классической химии в целом было возведено. Успехи химии в XIX в. связаны с тем, что она опиралась на атомно-молекулярное учение. Однако к исходу столетия оно утратило возможности дальнейшего развития. Ведь ничего не было известно о том, как устроен атом. Полагали, что все атомы любого химического элемента одинаковы. Разновидностей атомов столько же, сколько существует химических элементов. Атом — материальное тело, имеющее определённый вес. Вот, собственно, и весь «банк данных» классической атомистики. Как справедливо заметил в 1892 г. Менделеев, «атомы химических элементов остаются неизвестными в своей сущности и представляют только гипотезу».
Конечно, подобное обстоятельство не могло приостановить дальнейшего развития химических исследований. Однако всё чаще и чаще новые открытия, наблюдения, результаты экспериментов не получали необходимых теоретических объяснений.
(1827—1907)
Он дважды занимал высокие государственные посты: возглавлял Министерство народного образования и изящных искусств, был министром иностранных дел Французской республики.
В Париже его именем названы улица и площадь. Не за заслуги на государственном поприще: Пьер Эжен Марселен Бертло снискал славу величайшего учёного XIX в. И не только как химик: ему принадлежат исследования по физике и биологии. Сотни его статей посвящены гуманитарным наукам: философии, археологии, истории, педагогике... Всего и не перечислишь.
(1779—1848)
Йёнсу Якобу Берцелиусу не исполнилось и тридцати, когда его избрали президентом Шведской академии наук. В одной из своих работ он назвал кислород центром, «вокруг которого вращается вся химия». Можно сказать, что химия первой половины XIX в. «вращалась» вокруг Берцелиуса, и это не преувеличение.
Вот как характеризовал его деятельность видный химик и историк науки Пауль Вальден: «Берцелиус включил в свой строительный план неорганическую и органическую химию, аналитическую и минералогическую, физиологическую и электрохимию. Он дал строительный материал, исследуя химические элементы, число которых увеличил новыми открытиями. Он положил фундамент, расположив атомы по размеру, числу и весу, и связал их электрическими силами. Он больше, чем кто-либо до него, способствовал основанию века количественной химии. Он оставил этому веку новый язык символов, ценные новые понятия и новых мастеров химии».
В чём состояли принципы Дальтона? Во-первых, он принял, что атомы одного и того же вещества тождественны; во-вторых, показал, что разные атомы способны соединяться между собой в различных соотношениях; в-третьих, подчеркнул абсолютную неделимость «простых» атомов (молекулы Дальтон называл «сложными атомами»). Наконец, в 1803—1804 гг. Дальтон ввёл фундаментальное понятие атомного веса — фактически первый количественный параметр, характеризующий атом. Зная атомные веса элементов, можно устанавливать меру химических превращений и химических соотношений веществ, составлять количественные уравнения реакций.
(1743—1794)
8 мая 1794 г. нож гильотины оборвал жизнь величайшего учёного XVIII в. «Понадобилось лишь одно мгновение, чтобы отрубить эту голову, но, быть может, и столетия будет мало, чтобы создать подобную ей», — сказал его современник. Общественно-политический деятель и предприниматель Антуан Лоран Лавуазье оказался одной из жертв разгула якобинского террора. Научные заслуги не были приняты во внимание.